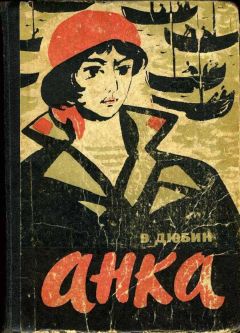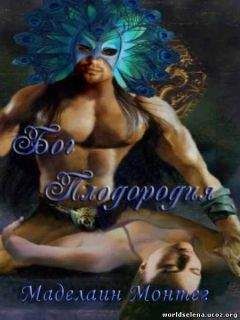Лев Златкин - Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге]
Поворочавшись с боку на бок, Поворов оставил всякую попытку заснуть, а попробовал сделать зарядку, чтобы выгнать из тела боль, но в таком узком пространстве бокса не развернешься, поэтому он поприседал десяток раз и сел обратно на скамью, стараясь не думать о невеселых перспективах.
«Думай, не думай, а если мать не вытащит, намотают мне все пятнадцать! — горестно размышлял Поворов. — Несовершеннолетняя, к тому же дубинкой по голове я ее ударил».
Когда за дверью бокса послышались шаги, Поворов обрадовался им, как родным. Бокс ему явно не понравился.
Открылась дверь. Поворов сделал попытку встать и направиться к вошедшему надзирателю, но тут же он был остановлен окриком:
— Сидеть!
Поворов испуганно замер на скамье.
Надзиратель поставил на пол поднос, на котором стояла алюминиевая миска с дымящейся пшенной кашей, из миски торчала алюминиевая ложка. Рядом с миской расположился стакан с горячей жидкостью, напоминавшей чай, а на стакане лежал толстый кусок черного хлеба.
— Завтрак! — коротко пояснил надзиратель. — Ешь быстрее, через десять минут оформлять в камеру будут.
И закрыл опять дверь на ключ.
Поворов еде обрадовался, даже такой, непритязательной — голод не тетка. И подняв поднос с пола, поставил его на сиденье, а сам пристроился рядом.
С виду напоминающая чай жидкость оказалась морковным кофе, подслащенным сахарином или другим заменителем сахара.
Каша была сварена на воде и тоже подслащена. Горячая.
Хлеб был как хлеб. Черный. Съедобный.
Если бы Виктору подали дома такой завтрак, он бы удивился донельзя. Изредка он и дома ел кашу, сваренную на молоке, или черный хлеб, но только в сочетании с другими продуктами, в основном с деликатесами.
Поэтому Поворов сам удивился, когда с жадностью съел весь завтрак, «тюремную баланду», как он мысленно обозвал его, И выпил даже морковный кофе.
«Я знаю пословицу: „Дома и солома едома!“ — сказал сам себе Виктор. — Но в применении к тюрьме?.. Или отныне тюрьма — мой дом родной?»
И настроение сразу же испортилось.
Ровно черёз десять минут дверь вновь отворилась, но на этот раз команда была совсем противоположная:
— Встать!
Поворов поднялся, оставив поднос с посудой на скамье.
Надзиратель указал на поднос рукой:
— А кто за тебя поднос с грязной посудой нести будет? Запомни: отныне ты все делаешь за себя сам. Слуг здесь нет. Избаловали вас…
Виктор поспешил взять поднос с грязной посудой.
— Выходи! — скомандовал опять надзиратель.
Поворов с удовольствием покинул бокс, унося с собой поднос с грязной посудой.
По дороге в зал, где оформляли всех вновь прибывших, надзиратель завел Поворова на кухню, где тот оставил поднос.
В зале на Поворова быстро оформили формуляр.
— Фамилия, имя, отчество? — равнодушно спросил писарь, не глядя на Поворова.
— Поворов Виктор Петрович!
— Сколько полных лет?
— Двадцать!
— Статья?
— Сто семнадцатая! Часть вторая.
Писарь впервые взглянул на Поворова, и во взгляде было одно омерзение, хотя в его возрасте уже можно было привыкнуть ко всему в этих стенах.
— На стрижку!
— С какой стати? — взвился Поворов. — Я еще не осужденный.
— Права качать вздумал? — усмехнулся писарь и позвал надзирателя: — Петрович!
Подошел длинный жилистый мужчина лет сорока, легко, играючи, схватил Поворова за шиворот, как пушинку, поднял его со стула и буквально отнес к парикмахеру.
— Этого без очереди.
И посадил Поворова в засыпанное волосами разного цвета кресло.
Испуганный Поворов уже не думал сопротивляться.
Парикмахеру потребовалось ровно две минуты, чтобы от дорогой прически Поворова ничего, не осталось.
Но и это было не все.
Когда Поворов, ощущая на голове легкость, поднялся с кресла, тот же надзиратель приказал:
— Раздеться догола!
Только сейчас Поворов заметил, что вокруг него все задержанные стоят в чем мать родила.
Способность к сопротивлению была подавлена, и он покорно разделся догола.
Надзиратель занялся проверкой одежды.
А парикмахер напомнил Виктору:
— Эй, я еще не закончил с тобой! Марш ко мне!
Поворов, недоумевая, подошел к парикмахеру, и тот двумя движениями машинки снял у Поворова волосы в паху.
— Свободен! — язвительно проговорил парикмахер. Поворов со страхом посмотрел на себя ниже пояса, ставшего голым и жалким. Виктору даже показалось, что он уменьшился и съежился в размерах.
Такого унижения он и представить себе не мог.
Но Виктор еще хорохорился: «…Все пройдет, как с белых яблонь дым…»
Голых и стриженых задержанных, как стадо баранов, погнали под душ. Выдали каждому по кусочку мыла, хозяйственного, размером со спичечный коробок, и стали запускать в душевую числом, равным количеству помывочных мест.
Поворов попал в первую десятку и, стоя под едва теплым душем, размышлял, ожесточенно намыливая остриженную голову: «Пошел по шерсть, а вернулся стриженым! Не только в армии, оказывается, стригут. Может, лучше было бы в армию пойти?»
Мытых направляли на сушку, где большие фены с фотоэлементами почти мгновенно обсушивали голову и тело, оставляя в неприкосновенности душу.
Затем Поворову выдали его одежду, очевидно, тоже подвергшуюся санобработке горячим паром с химическими добавками.
Поворов с содроганием надел ставшую словно чужой одежду, и надзиратель повел его в камеру.
С первого этажа Поворова довели только до второго. Там надзиратель постучал большим ключом по решетке, закрытой на ключ, условное количество раз, и ответственный за эту решетку не спеша подошел к ним, открыл решетку, принял Поворова, закрыл решетку обратно на ключ и повел задержанного по длинному коридору к другой решетке, которая разделяла этот длинный коридор на сектора.
Упершись в следующую решетку, надзиратель, в свою очередь, остановился и постучал о нее своим ключом. Звон был далеко слышен, потому что в конце коридора показался другой надзиратель и направился к ним не спеша.
«Не доверяют они другу другу, что ли? — устало подумал морально раздавленный Поворов. — У каждого свой ключ и свое строго ограниченное пространство: от решетки до решетки. Да! Отсюда действительно не убежишь».
И Поворов вспомнил, как он подслушал наставление надзирателя одному из задержанных: «Бежать отсюда бесполезно. Единственный, кому удалось это сделать, был Феликс Эдмундович Дзержинский, рыцарь революции. И то этот рыцарь спрятался в бочку с дерьмом. Тогда канализации не было. А теперь не смоешься». И захохотал от сказанной двусмысленности.
Следующий надзиратель повторил всю процедуру с точностью робота и повел Поворова к камере.
«Двести шестая камера», — прочитал Виктор.
— Хулиганка! — добавил надзиратель.
— Почему хулиганка? — не понял Поворов.
— Статья есть такая в Уголовном кодексе, двести шестая, за хулиганство, — пояснил надзиратель.
Он открыл окошко в двери, называемое «кормушкой», и посмотрел вовнутрь камеры. Затем закрыл кормушку, пробормотав:
— Мир и гладь, божья благодать…
Надзиратель посмотрел на Поворова, чему-то усмехнулся и открыл дверь.
Задержанные, занимавшиеся до этого каждый своим делом, замерли.
— Входи! — приказал надзиратель.
Поворов вошел вслед за надзирателем.
Тот, оставив дверь камеры открытой, пошел к койке, стоящей у самого окна.
— Иди за мной! — приказал он Поворову.
Тот не осмелился ослушаться.
Надзиратель сбросил с койки у окна чьи-то вещи и сказал:
— Это будет твоя койка. Самая удобная. У окна воздуха больше. А то курят, хоть топор вешай. И вони меньше, от параши далеко.
Парень лет двадцати, высокий и худой, подскочил к надзирателю.
— Гражданин сержант, но это моя койка!
Надзиратель презрительно отстранил его рукой от себя.
— Ты, Сойкин, хулиган! Твоего здесь что на тебе. Ты теперь переходишь на государственное обеспечение.
Надзиратель покинул камеру и закрыл за собой дверь на замок.
«Дверь была открыта, но никто даже не сделал попытки сбежать. Хотя каждый, как и я, знает, что далеко не убежишь — упрешься в следующую решетку».
Поворов оглядел напряженные лица собравшихся вокруг него сокамерников и, улыбнувшись, произнес с некоторой бравадой:
— Привет честной компании! Позвольте представиться: Виктор Поворов!
Сойкин явно боролся с желанием немедленно броситься на Поворова и затеять с ним драку, но медлил, не зная последствий.
— Наше вам с кисточкой! — решил Сойкин отложить экзекуцию. — Бугор или прыщ на ровном месте? По какой статье?
— По сто семнадцатой.
— Что так гордо? — спросил крепкий, просто литой парень лет тридцати, явно восточной национальности. — Мы сегодня старосту камеры выбираем. Если хочешь стать старостой, то должен пройти испытание…